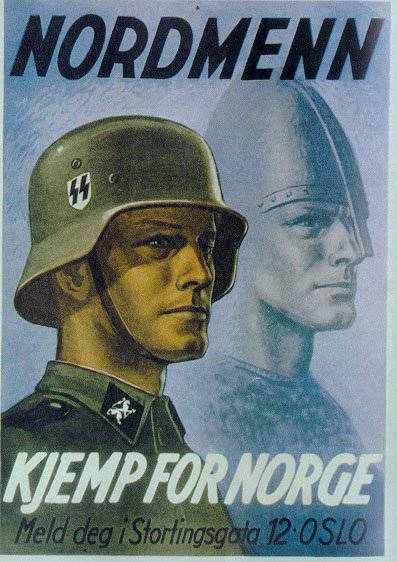алтернативная т.з.
02 апреля 2013 Александр Горбенко
Обострение давнего корейского конфликта на прошлой неделе заняло первые полосы и топы новостей. Если попытаться бегло осмотреть развитие событий, то выглядеть всё будет примерно так: КНДР (Северная Корея) проводит новые ядерные испытания, нарушив обещание этого не делать; в ответ ООН принимает против них новый пакет санкций, а КНДР привычно начинает грозить войной своей южной сестре и заодно США. В общем, по похожим сценариям события разворачиваются не первый раз. И все уже более-менее привыкли к регулярным обострениям отношений между двумя половинами корейского государства.
Интересно, что конфронтация между Северной и Южной Кореей даже в отечественных СМИ комментируется не иначе, как с точки зрения запада. То есть в том духе, что маловменяемый и странный северокорейский режим угрожает всем соседям и вообще кому попало ядерным и обычным оружием. В лучшем случае делается вывод о том, что это такой военный шантаж Северной Кореи, с целью добиться… чего-то добиться от мирового сообщества, то ли послабления экономических санкций, то ли получения экономической помощи.
При этом всем давно известно, что санкции принимаются в ответ на агрессивную политику режима в Пхеньяне: он спит и видит, как бы напасть на южную половину страны, да к тому же хочет обладать ядерным оружием. И о периодическом голоде, вызванном неурожаями – наверняка слышали все. А «цивилизованный мир» в этой ситуации выглядит даже гуманным, ведь экономическая гуманитарная помощь всё-таки иногда оказывается. И не кем-то, а самими Соединенными Штатами – главным мировым гуманистом. Но, вопреки своему же счастью и настойчивым уговорам «мирового сообщества» – северокорейский режим продолжает вести себя агрессивно. Не правда ли, примерно так ситуацию все и представляют?
Зрителями с читателями данная ситуация часто воспринимается в шутливом тоне – ну как не поиронизировать над этими нищими фанатиками в военном?
При этом странность и отличие жителей КНДР от так называемого «цивилизованного мира» слишком явно заметны. Ну как же, ведь они фанатично преданы своей режиму, при этом находясь в нищете и информационном вакууме. Они не приобщены к достижениям современности, всевозможным «гаджетам», интернету и развлечениям на любой вкус. Конечно, им можно сочувствовать, но снисходительно, ведь даже отечественный зритель и читатель может явно ощутить свое превосходство, являясь вполне приобщенным ко всем этим благам цивилизации. А потому на северных корейцев легче смотреть как на людей невменяемых и непредсказуемых в своем поведении.
В общем, именно такой взгляд на ситуацию и навязывается общественному мнению уже давно. И хочется не столько встать на одну из сторон корейского конфликта, сколько постараться разобраться, почему Корея продолжает оставаться в состоянии готовности к новой войне спустя столько лет после окончания первой? Объяснение такой ситуации исключительной агрессивностью и тоталитарной идеологией северных корейцев может устроить, только если искать всему простое объяснение. Или довольствоваться картиной мира, предоставленной его отражением в развлекательных СМИ. Но хочется всё же понять истинные причины такого «странного» поведения людей в стране, которая, кстати, является нашим соседом.
Для начала стоит посмотреть на саму Корею и её историю. Корея была единым государством начиная с Х века, когда практически в границах нынешних её половинок образовалось государство Корё, а позднее Чосон. Корея и тогда была склонна к самоизоляции и никогда не угрожала соседям, сохраняя дружеские отношения с Россией и Китаем. После поражения России в русско-японской войне и последовавшей у нас Гражданской войны – противовес Японии на Тихом океане исчез на многие годы. В 1910 году Корея стала колонией Японии, каковой и оставалась до 1945 года.
После поражения Японии во Второй мировой войне оказалось, что свято место пусто не бывает, и доминировать в Тихом океане желают США. Советский Союз, как и ранее Российскую Империю, интересовала не гегемония, а безопасность своих восточных границ и Дальнего Востока. Понимая, что нам предстоит противостояние с противником не менее опасным, чем гитлеровская Германия, И.В.Сталин старался оградить СССР кольцом дружественных государств. Советский Союз, разрушенный кровопролитной войной, вынужден был восстанавливаться сам и восстанавливать страны, ставшие буфером между двумя цивилизациями. А границы зон оккупации Советских войск и бывших союзников по антигитлеровской коалиции стали границами двух миров – границами Холодной войны. Собственно, американцы тоже занимались послевоенным обустройством своих зон оккупации, с той только разницей, что они не ведали войны на своей территории, разрушения своих городов и гибели своих мирных жителей. И экономически они только выросли в стороне от Великой войны и за её счёт.
В Восточной Европе мы поделили с недавними союзниками Германию, а символом разделения единой страны двумя мировыми силами стала Берлинская стена. На востоке появилась своя Берлинская стена – 38-я параллель, разделившая Корею на две части. И если первая стена рухнула (поскольку народ, разделённый искусственно, невозможно бесконечно удерживать в этом состоянии), то восточная стена – стоит как прежде. Почему?
Так же, как и побеждённых немцев, корейцев никто не спрашивал, хотят ли они жить в разных государствах. Понятно, что и мы, и американцы не допустили бы в своих оккупационных зонах появления у власти враждебных себе сил. Северная Корея была обречена стать коммунистической, а Южная – капиталистической. Северную Корею трудно назвать «демократической» страной. Но к южнокорейской действительности это слово тоже может быть применимо только со времени появления в 1987 году Шестой республики. И то относительно. А если кто-то думает, что Южная Корея была с самого начала некой «свободной» или суверенной, то заблуждаться на этот счёт не стоит.
До 1948 года она вообще была под прямым управлением американской военной администрации, даже без намёка на какую-то самостоятельность. Американцы, собственно, и объявили свою администрацию правопреемницей японской колониальной администрации, то есть сами стали колонизаторами. И это несмотря на то, что подобное управление обычно вводится в побеждённой стране, а Корея была жертвой Японии, а никак не союзницей. И если на Севере Кореи была проведена земельная реформа, а всю бывшую японскую собственность национализировали, то на Юге американская военная администрация беззастенчиво объявила себя владельцем всей без исключения японской собственности, включая землю. Корейские крестьяне, которые ещё недавно гнули спину на японских землевладельцев, внезапно оказались в роли батраков у американцев и тех же самых помещиков, которые были частью японской колониальной системы.
Директива Ставки Верховного главнокомандующего от 20 сентября 1945 года так определяла действия на освобожденной территории для Советской армии, которая в боях освобождала Корею от колонизаторов:
«…3. Не препятствовать образованию в занятых Красной армией районах антияпонских демократических организаций и партий и помогать им в их работе.
4. Разъяснять местному населению: а) что Красная армия вступила в Северную Корею с целью разгрома японских захватчиков и не преследует целей введения советских порядков в Корее и приобретения корейской территории; б) что частная и общественная собственность граждан Северной Кореи находится под защитой советских военных властей.
5. Призвать местное население продолжать свой мирный труд, обеспечить нормальную работу промышленных, торговых, коммунальных и других предприятий, выполнять требования и распоряжения советских военных властей и оказывать им содействие в поддержании общественного порядка.
6. Войскам, находящимся в Северной Корее, дать указания строго соблюдать дисциплину, население не обижать и вести себя корректно. Исполнению религиозных обрядов и церемоний не препятствовать, храмов и других религиозных учреждений не трогать».
Южнокорейский историк Чжон Хюн Су оценивает советскую оккупацию следующим образом: «Надо отдать должное Москве: период формального советского управления в Северной Корее был весьма краткосрочным и конструктивным. Самое главное, что он обошелся без тех правовых эксцессов, которые сопровождали американскую оккупацию Юга». О каких «правовых эксцессах» идет речь? А вот о каких.
Первые же декреты американцев, занявших юг страны без единого выстрела, – устанавливали военную диктатуру и смертную казнь за невыполнение любого приказа американской администрации или за участие в акциях политического протеста. Японские чиновники были оставлены на своих местах до передачи полномочий американским должностным лицам. Японская колониальная администрация стала американской.
Стоит ли удивляться, что вскоре на юге стали массово появляться объединения, требовавшие настоящей независимости вместо смены одного колонизатора на другого. Собственно, независимая Корейская Народная Республика была провозглашена на юге ещё 6 сентября 1945 года, когда американцев в Корее ещё не было (кроме передовой группы 24-го армейского корпуса), а Советские войска остановились на 38-й параллели. Главой этой республики стал одинаково уважаемый ныне в обеих частях Кореи борец за независимость полуострова Ё Ун Хён – националист левого толка. Он ещё в 1929 году был арестован британцами в Шанхае за антиколониальные речи и передан японцам. В дальнейшем он продолжил борьбу за независимость, а в 1945 году вел переговоры с японцами о создании независимого государства и гарантиях безопасности для японцев. Тем не менее, его республика не была признана ни американцами, ни СССР. Хотя СССР и признал низовые структуры национального самоуправления республики – Народные комитеты, но по вопросу лидера свободной Кореи у нас имелись свои соображения.
А вот на юге с Народными комитетами и корейской республикой американцы вели настоящую войну. Народные комитеты были носителями не коммунистической идеологии, а скорее национальной. В них была первая попытка создать собственное самоуправление хотя бы на местном уровне, а среди участников доля социалистов (даже не коммунистов) никогда не была превалирующей. То есть, трудно оправдать все преступления американской администрации против населения оккупированной страны и ростков её суверенитета – идеологией. Тем не менее с этими объединениями американцы боролись как самые настоящие колонизаторы. Уже 18 октября 1945 года в Южной Корее американцами были запрещены демонстрации и митинги, 30 октября была введена цензура, а 19 декабря американская военная полиция ликвидировала Центральный Народный комитет в Сеуле, который пытался выполнять функции независимого правительства. После этого, расправы с Народными комитетами и физическое уничтожение их членов началось в провинциях.
Дальше – больше. 27 декабря в Москве состоялось совещание министров иностранных дел США, Великобритании и Советского Союза, которое должно было определить послевоенный статус Кореи. Естественно, совещание закрепило соглашения, принятые на Ялтинской конференции, которые разделяли Корею на две оккупационные зоны по 38-й параллели. В тексте резолюции этого совещания, временное управление советской и американской администраций было названо «опекой». По предложению госсекретаря США Бирнса, её планировалось осуществлять 5-10 лет, создав специальные административные органы, обладающие всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти. То есть – колониальную администрацию. Забавно, но именно такой термин применяли японцы для обозначения своего протектората над Кореей. А корейцы не желали никакого протектората, а хотели давно заслуженной и выстраданной независимости. И хотя в конечном итоге был принят советский вариант резолюции, который всё же предусматривал формирование собственных корейских органов управления, но при содействии советской и американской администраций. То есть смысл документа менялся не сильно. Южнокорейский историк Ки Кван Со пишет о советском компромиссе с американской позицией с сожалением: «В предложениях СССР обнаруживается постоянная уступка американцам по сравнению с первыми его проектами об опеке. Позиция Советского Союза изменялась поэтапно: от отказа от введения опеки к попытке отложить вопрос о нем на будущее и затем к согласию на ее осуществление сроком до пяти лет…».
И на Юге против «опеки» выступили абсолютно все политические силы, кроме, как ни странно, коммунистов – они получили на Севере признание местного самоуправления, вполне реальное изгнание помещиков и земельную реформу, а так же национализацию японской собственности и помощь в восстановлении разрушенного войной хозяйства. Вероятно, они ожидали того же от американцев на Юге, или надеялись на то, что великие державы не будут долго удерживать Корею разделённой. Но на Юге они были в меньшинстве. Абсолютное большинство населения хотело независимости. Даже будущий первый президент Южной Кореи – Ли Сын Ман, ярый антикоммунист и американский гражданин, привезённый в Корею на личном самолете МакАртура специально, как будущий руководитель американской части страны – даже он был вынужден участвовать в «Комитете по борьбе с опекой» требуя скорейшего создания независимого правительства хотя бы на Юге.
На Севере тоже далеко не всё было гладко. СССР формировал новые органы власти естественно на основе Коммунистической партии Кореи. Но многие корейские борцы за независимость возвращались в освобожденную Корею из Китая. Они не вступали в созданную в СССР Компартию, а организовали собственную Новую Народную Партию, марксистскую по своей идеологии, но национально ориентированную. Она не подвергалась никаким репрессиям, так же как многие другие политические силы. Просто мы формировали новую власть на основе своих кадров. И чтобы не остаться в стороне от управления своей страной, Новая Народная Партия объединилась в 1946 году с Компартией, занявшись разработкой конституции и готовясь принять всю полноту власти от СССР. На Севере никаких выступлений против «опеки» Советского Союза не было, поскольку советская оккупация была совсем не похожа на колониальное правление.
Совсем иначе обстояло дело на Юге. Уже 31 декабря 1945 года движение по борьбе с опекой организовало общенациональную забастовку – даже корейские сотрудники военной администрации не вышли на работу в знак протеста против американского протектората. Американцы требовали прекратить беспорядки и в конечном итоге перешли к прямым репрессиям, трактуя массовые выступления, как попытку государственного переворота. Но выступления не прекращались и достигли своего пика в 1946-48 годах, вылившись в настоящее национально-освободительное движение. И выступления подавлялись американцами. Достаточно упомянуть самый яркий эпизод американского правления Южной Кореей: 3 апреля 1948 года на острове Чечжу были сожжены почти все поселения, а число погибших жителей оценивается числом от 60 до 70 тысяч! «Демократическим» выборам 10 мая 1948 года, которые закрепили создание отдельного государства в южной части Кореи, предшествовал арест 50 425 человек, и сопутствовало убийство более 500 человек в сам день выборов. Вот такие «правовые эксцессы». Вот такая «свобода и демократия».
Так или иначе, но к 1949 году советские и американские войска были выведены с полуострова, а обе половины страны получили каждая своё правительство. Это произошло вопреки желанию жителей страны, желавших видеть её единой. Гражданская война приближалась. Надо сказать, что в ней не были заинтересованы ни СССР, ни США – сверхдержавы вполне устраивало образование буферных государств на границах своих зон влияния. Но конституции обеих стран говорили об объединении Кореи. И оба режима хотели объединить Корею под своей властью. Ким Ир Сен многократно получал отказ от Советского Союза на просьбы о помощи в полномасштабном вторжении.Сталин даже не стал заключать с КНДР договора о военной помощи, который был заключен с Китаем, чтобы не поселять в Ким Ир Сене уверенности в поддержке. Аналогично осаживал Ли Сын Мана и Вашингтон. Но, тем не менее, война началась. Она унесла жизни около 5 миллионов человек, вернув позиции сторон к исходной точке – к 38-й параллели – восточной стене, и поныне разделяющей одну страну и один народ.
Итак, сверхдержавы разделили Корею искусственно, вопреки желанию самих корейцев. Они ждали освобождения от колониального правления японцев и долгожданной самостоятельности. А получили раздел страны между двумя лагерями начинавшейся Холодной войны. Они обрели в конечном итоге собственные правительства и относительную самостоятельность. Но не обрели единой страны.
На Севере, как ни странно, самостоятельность была более реальной, чем на Юге. Естественно, СССР не мог оставить у власти никакого другого правительства, кроме коммунистического. Но сделано это было не репрессиями против альтернативных политических течений, а объединением всех политических сил внутри одной партии.
Основой образованной в 1946 году Трудовой партии Кореи (ТПК), конечно, стала Коммунистическая партия Кореи, созданная в Советском Союзе. Но все прочие политические организации, включая националистические и даже буржуазные, также вошли в ТПК, чтобы не оказаться устраненными от управления своей страной. Такое объединение нельзя назвать «демократическим» в привычном понимании этого слова. Ведь при такой системе политические партии не борются за власть и голоса избирателей, а решают все вопросы и разногласия внутри единой правящей партии. Однако такая система была очень органична для Кореи. Жители страны считали, что после освобождения от колониального правления должно быть национальное единство, а не внутренняя борьба политических группировок.
Ну, и до превращения в японскую колонию Корея была монархией. А для монархии свойственна борьба элит и амбиций отдельных личностей внутри единой системы национальной власти. Поэтому корейцы, освободившись от колониального владычества, хотели национального единства, а совсем не национальной раздробленности.
Собственно, поэтому все политические силы так спокойно объединились в одну правящую партию – для недавних борцов с колониализмом все разногласия по поводу отдельных моментов будущего устройства страны были не столь значительны, чтобы начинать борьбу друг с другом, или пытаться разделить народ по принципу сторонников и противников каких-либо группировок. Гораздо более важным они считали возрождение своей страны общими усилиями, причем единой страны – о том, что Корея может быть надолго разделена, всерьёз никто не думал. Самый корейский марксизм был в большей степени идеей национального возрождения, нежели какой-то глобальной идеей.
Этот аспект очень важен для понимания того, что происходило с Кореей после освобождения и что происходит с половинками страны сейчас. Даже идея «чучхе», которой пугают детей в так называемых «развитых» странах, подразумевая под ней самоизоляцию и нищету нынешнего населения Северной Кореи – имеет глубокие национальные корни. Она ни в коем случае не является марксистской, появилась в средние века в трудах корейских философов и в некотором смысле свойственна даже Южной Корее. Чучхе – опора на собственные силы (дословно – сам себе хозяин), была провозглашена в 1955 году, когда разрушенная и обескровленная войной страна чувствовала себя игрушкой и даже жертвой мировых сверхдержав. Её появление -- во многом результат того, что правящая партия ТПК вобрала в себя не только коммунистические силы, но и националистические. Собственно, само провозглашение чучхе в речи Ким Ир Сена – было отходом от марксизма, что и не скрывалось, поскольку сама речь была озаглавлена вполне определённо: «Об искоренении догматизма и формализма в идеологической работе». Понятно, что «догматизм и формализм» имелся в виду именно коммунистический.
Были ли основания у Северной Кореи, когда она разочаровалась в ведущей роли СССР и пошла своим путем, перестав нам доверять? Думаю, что были.
Нужно вспомнить, что изначально жители обеих половин Кореи даже не предполагали, что будут жить в разных государствах и не желали этого. В отличие от Севера, занятого советскими войсками, на Юге – американская оккупация и военная диктатура совершено не была похожа на освобождение от колониального гнёта. Там национально-освободительное движение было массовым. Но коммунисты юга – поддерживали так называемую «опеку» Кореи, то есть, выступили вопреки общенародному мнению. Из-за этого они потеряли в народе практически всякую поддержку. Хотя понять их нетрудно. Ведь формально СССР и США всё ещё были союзниками, и решение о временной «опеке» было поддержано Москвой. То есть, коммунисты юга пострадали от слепого доверия политике Советского Союза.
Дальше рухнула последняя надежда на единство страны, которое было безусловным и объективным желанием всех политических сил Кореи, не исключая коммунистов. На Юге американцы жестоко подавляли все национально-освободительные выступления, устроили массовый террор и готовили почву для превращения своей зоны оккупации в отдельное государство. Но оказалось, что Москву разделение страны тоже вполне устраивает. И даже более того, является частью плана создания «буферных» государств по периметру СССР. То есть мы при разделе Кореи руководствовались интересами собственной безопасности, а совсем не благополучием корейского народа или идеями построения мирового социализма.
Когда Ким Ир Сен и ТПК стали уже вполне самостоятельно руководить севером страны, они по-прежнему стремились к её объединению – но сделать это мирно было уже невозможно. Американцы зачистили политическое поле Юга репрессиями и оформили отдельное государство совсем не демократическими выборами правительства, которое на Севере и сейчас называют «сепаратистским». Когда Ким Ир Сен просил у Сталина помощи во вторжении на Юг, он вполне справедливо указывал на то, что правительство Ли Сын Мана не пользуется популярностью и вторжение будет поддержано населением Юга. Это было действительно так. Но от Сталина неизменно приходил отказ. И даже договор о взаимопомощи СССР с Северной Кореей не подписывал, несмотря на многочисленные просьбы. Хотя с Китаем аналогичный договор был подписан сразу. Многие историки спорят: почемуСталин не воспрепятствовал вторжению американских войск под мандатом ООН? Ведь когда северокорейские войска вошли на Юг, они действительно встретили поддержку местного населения и за два месяца освободили 90% территории, (кроме небольшого Пусанского плацдарма, удерживаемого американцами). Если бы мы в этот момент наложили вето в Совбезе ООН – возможно, американцам пришлось бы эвакуировать остатки своих войск и смириться с объединением Кореи.
Тем не менее Советский Союз не стал отменять бойкот заседаний Совета безопасности (мы так протестовали против непризнания ООН Китайской Народной Республики) ради, возможно, судьбоносного момента в истории Кореи. Это могло помочь объединить страну ещё в 1950 году. Осуждать за это Сталина корейцы вправе – последовавшее вторжение американцев унесло миллионы жизней ни в чем не повинных людей и едва не привело ко второму в истории применению ядерного оружия (только позиция Англии, боявшейся ядерного ответа СССР по своей территории, удержала Трумэна от ядерной бомбардировки Кореи).
Но нам было бы неправильно осуждать за это Сталина. Он был главой нашей страны и руководствовался её интересами. Как раз в это время США обладали преимуществом по ядерному оружию и средствам его доставки. Как раз в это время в США более чем серьёзно обсуждалось нанесение ядерного удара по СССР. К такому шагу американцев подталкивало наблюдение за темпами нашего послевоенного восстановления и стремительное наращивание военного потенциала – оно в ближайшей перспективе угрожало американскому превосходству в ядерном оружии. Конечно, история не имеет сослагательного наклонения. Но если бы не Корейская война – возможно, ядерная война началась бы в начале 50-х годов. И мы как минимум должны быть благодарны северным корейцам за то, что став «буферным» государством, они приняли на себя первый горячий удар на фронте Холодной войны.
После войны Корея была разрушена и обескровлена. Американский историк Камингс так описывает последствия войны:
«В 1953 г. Корейский полуостров представлял собой дымящиеся руины. От Пусана на юге до Синыйчжу на севере корейцы хоронили своих мертвых, оплакивая потери и пытаясь соединить разбитые осколки былой жизни. В столице Южной Кореи Сеуле пустые здания, подобные скелетам, стояли вдоль улиц, мощенных чудовищной смесью бетона и шрапнели. На севере все современные сооружения теперь едва стояли: Пхеньян и другие города представляли собой кучи разбитого кирпича и пепла, фабрики были пустыми, огромные плотины больше не сдерживали воду. Люди жили подобно кротам, ночуя в пещерах и штольнях и просыпаясь в кошмаре наступившего дня».
Война не завершилась подписанием мирного договора, а только перемирием, которое длится по сей день. Почему-то эта война до сих пор считается противостоянием Севера и Юга Кореи. В действительности, она была войной сверхдержав, а корейцы оказались разменной пешкой в их игре. И это прекрасно поняли как на Севере, так и на Юге. Собственно поэтому, война вовсе не убила идею объединения страны, как следовало бы ожидать. Объединения и общих выборов требовали представители двух половинок страны сразу после подписания соглашения о перемирии. Вы удивитесь, но объединение и сейчас считается главной задачей, как в КНДР, так и в Корейской Республике. Если Южная Корея проводит постепенную и осторожную «политику сближения с КНДР», то Северная Корея готова подписать с Югом конфедеративный договор хоть сегодня. Да-да, именно так!
Вы удивлены? Не мудрено. Ведь, судя по сообщениям даже отечественных СМИ, создается впечатление, что это северные корейцы, замкнувшиеся в своей агрессивной и изоляционистской идеологии, противятся сближению и норовят напасть на соседа. А между тем, именно северные корейцы выступают инициаторами создания Демократической Конфедеративной Республики Корё. По плану объединения, на первоначальном этапе стороны признают сложившиеся в обеих половинках системы власти, но после переходного периода должны состояться общенациональные выборы, которые и определят политическое устройство единой страны. То есть «клан Кимов» вовсе не так сильно держится за власть, как об этом любят порассуждать многие журналисты. А ради воссоединения северокорейское руководство готово даже расстаться с властью. Ведь понятно, что в случае объединения рассчитывать на сохранение монополии на власть не приходится.
Но может быть, руководство Южной Кореи несогласно с этим планом? Вы снова удивитесь, но Южная Корея приняла его ещё в 1972 году, когда по итогам переговоров в Пхеньяне и Сеуле было опубликовано совместное заявление, определяющее основные принципы мирного объединения Кореи. В декабре 1991 г. имела место встреча министров иностранных дел Северной и Южной Кореи в Сеуле, завершившаяся подписанием 13 декабря «Соглашения о примирении, ненападении, сотрудничестве и обмене между Севером и Югом». В нем стороны впервые официально признали сам факт существования на полуострове двух государств. Но вместе с тем, в соглашении подчеркивалось, что отношения между КНДР и Республикой Корея не обычные межгосударственные, а временно сложившиеся в ходе продвижения к воссоединению!
А в 1992 году Север и Юг подписали совместную декларацию о так называемой денуклеаризации Корейского полуострова, то есть, о недопустимости размещения на нем ядерного оружия. Вы скажете: «но ведь именно Северная Корея сама нарушает принципы этой декларации, создавая свое ядерное оружие». А вот и нет. Декларация говорила о необходимости исключить присутствие американского ядерного оружия на южнокорейской территории, поскольку оно, естественно, направлено против Северной Кореи. Вот и выходит, что декларация осталась пустым звуком совсем не по вине корейцев. А северокорейская ядерная программа оказалась совсем не доказательством их природной склонности к агрессии, а всего лишь ответом на размещение американцами ядерного оружия в Южной Корее. По сути, она спровоцирована самими американцами.
И даже нынешнее состояние «временного перемирия», вместо полноценного мирного договора – прямая заслуга американцев. Вы снова удивитесь, но именно США отвергают все призывы Северной Кореи подписать мирный договор. Нет, они конечно не противятся этому открыто. Но каждый раз обставляют возможность подписания политическими требованиями, которые оказываются неприемлемыми для Северной Кореи. Ну и очередное «обострение ситуации» случается как раз тогда, когда диалог между половинками Кореи начинает давать результаты.
Давайте посмотрим повнимательней на нынешнее «обострение». Вроде бы, всё началось с ядерного испытания, которое Северная Корея провела вопреки собственному же обещанию ядерную программу заморозить. И тут же поднялся вой по поводу угрозы для всего человечества, исходящей от маленького государства. Однако с чего это северяне решили вдруг нарушить собственный мораторий? Вероятно, решили пошантажировать «прогрессивное человечество»? Ан нет. Не всё так просто. Испытанию предшествовало довольно странное обнародование американцами своей командно-штабной игры. Игра проверяла возможность американской группировки войск в Южной Корее взять под контроль ядерные объекты КНДР в случае падения «диктаторского режима преступной семьи». Но интересно не это, а сам факт публикации и неутешительные результаты моделирования – оказалось, что США потребуется для захвата ядерного арсенала 90-тысячный контингент и слишком большое время. То есть решить эту задачу с помощью обычных вооружений они не способны.
Вы скажете, что это чисто гипотетическое моделирование, и оно не означает, что США всерьёз собираются вторгаться в КНДР? Да, не собираются. Но как должна была реагировать на это Северная Корея, если по итогам игры 22 февраля США и Южная Корея подписывают план совместных действий, который отрабатывается как раз сейчас в ходе крупномасштабных совместных учений? Ну а чтобы у северокорейцев не осталось сомнений, что США больше не надеются на обычные вооружения, а рассматривают возможность применения ядерного оружия – в ходе учений, стратегические бомбардировщики B-2 и B-52 (носители ядерного оружия) совершают демонстративный облет приграничной зоны, едва не вторгшись в воздушное пространство КНДР.
Хочу заметить, что реакция Северной Кореи на эти провокации – довольно сдержанная, просто она многократно усилена и раздута западными СМИ. Достаточно вспомнить неправильный перевод, когда вместо «готовности действовать по законам военного времени» западные телеканалы как по команде сообщили об объявлении войны. Если же отвлечься от национальной экспрессии северокорейских дикторов ТВ, то реакция сводится всего лишь к приведению вооруженных сил в боеготовность и заявлению, что в случае агрессии КНДР может нанести удары по американским военным базам. И всё. А вот американскую реакцию, очень сложно считать стремлением разрядить обстановку. В ответ на грозный тон дикторов они усиливают группировку кораблей и авиации. Это больше похоже на тушение пожара керосином, чем на заинтересованность в успокоении ситуации.
Да и не нужны им спокойствие и мир на Корейском полуострове. Ну в самом деле, ведь если Корея объединится, то кому в Тихоокеанской зоне будут нужны американцы? Кем пугать «прогрессивное человечество»? Как обосновывать свое военное присутствие и статус мирового лидера? Вот и держат американцы восточную «берлинскую стену» из последних сил, чтобы доказать миру свою нужность. Держат провокациями, интригами и искажением реальности в виртуальном пространстве мировых СМИ.
Мне кажется, что эти усилия всё равно обречены на провал. Невозможно удерживать народ, разделённый искусственно, бесконечно. И здесь осторожная тактика Южной Кореи по постепенному сближению с КНДР кажется более верной. Южнокорейцы хорошо понимают, какое противодействие будут оказывать американцы резким шагам, подобным одномоментному подписанию конфедеративного договора. И действуют осторожней, но вернее. Последние события для многих открыли тихо идущую экономическую интеграцию Кореи, реализуемую через зоны экономического сотрудничества. Некоторый вклад в сближение половинок страны вносим и мы – Южная Корея желает получать не сжиженный российский газ, а проходящий через газопровод, идущий по территории Северной Кореи. КНДР получит от этого проекта существенные поступления в бюджет от транзита. Согласитесь, что Южная Корея, добровольно попадая в зависимость от поставок энергоносителей через КНДР, явно не имеет в виду никакой враждебности северокорейцев, которой так любят пугать западного обывателя. В этом году стало известно, что газопровод пойдет в Синычжу, и через Пхеньян в Кэсон. Кстати, по этому маршруту также строятся скоростная железная дорога и автомагистраль, которые свяжут две Кореи.
Подобные проекты и выстраданное желание корейского народа объединиться – рано или поздно сломают восточную «берлинскую стену». И тогда американцам придется уйти. Пожелаем Корее, чтобы это произошло быстрее, несмотря на усилия заокеанских колонизаторов. Может быть, глядя на них, и нам будет легче воссоединиться.



 )
)